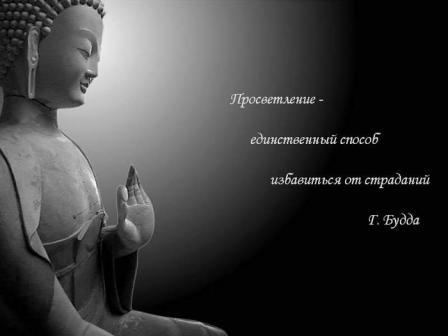Основы слов считаются непроизводными, потому что их нельзя производить от какой-то другой основы или какого-то другого слова, но как таковые они могут быть производящими для какой-нибудь иной основы или какого-нибудь иного слова. Например, дом > доменная (печь) > домна. И наоборот, основа считается производной, если слово стало возможно производить от какой-то иной основы или какого-то другого слова. Например, домовой, домашний, домушник < дом.
Поэтому возникает вполне естественный и закономерный вопрос: откуда тогда берутся слова, которые не могут быть производными других основ или слов по определению? Ответ на вопрос необходимо искать не в грамматической модели словопроизводства как такового, но в парадигме словообразования, когда дело касается не производства новых слов на существующей непроизводной основе, но образования и самих этих непроизводных основ, как правило, односложных в своём происхождении. Притом условии, что образование односложного слова происходит по образу, а производство многосложных слов — по подобию.
Для того, чтобы представить себе, каким именно образом индоевропейское дом воспроизводит общеславянские значения, необходимо чётко представлять себе и то, как развиваются значения других слов, образованных или произведённых на той же основе, установив тем самым их единообразие по признаку.
Литературное поднимать стало следствием речевой назализации характерного сдавленного звука: [ъ] + [i] = [ъı]. Отчего просторечное подымать “передвигать снизу вверх, изнутри наружу” останется ключевым. Следовательно, восприятие оного как «подъ-имать» не удовлетворяет условию; в то же время «по-дымать» возвращает к восстановленному ранее *demti, соответствующему диалектному демить, дмить “раздувать вширь и ввысь”. А с таковым условием согласуются значения прилагательного надменный (господин) “высокомерный, надутый”, и для которого справедливо прочтение по складам, «на-дм-ен-ный», но никак не по слогам, «над-мен-ный», действительного вздыматься “высоко раздуваться (о волнах), подниматься (о земле)”. С этим же согласуется простонародное член дымит “поднимается выше, становится больше, раздувается”. Дым в значении столб дыма, как возгорание вещества, которое раздувает в разные стороны над землёю. Важно, что индоевропейское *dhum вопреки официально признанной версии сформировано из однотипного корня вследствие развития придыхания вместо характерного сдавленного звука. Дума как раздувание мыслей и выход их из глубины на поверхность сознания, как явление извне с направленностью вовне.
Демон, высокомерный дух, потому как искушение плодами знания становится поводом для гордости, ведь древнегреческий демон подобный древнеримскому гению возвышает одного человека над другими и раздувает его мысли дальше, больше, выше. Демиург в античной философии, — высшее творческое начало, творец всех вещей; в христианском богословии высшее созидательное начало, зиждитель всего сущего. Латинское Domine буквально значит ‘Всевышний’, то есть Бог, Господь. Откуда дама “госпожа”, как заимствование из французского dame, которое в свою очередь является итогом развития латинского domina — хозяйка дома или замужняя женщина из высшего общества, или благородного сословия, приближённая к верховной власти, а возможно к богам. Придворные дамы. В сравнении с латинским dominantus, превосходящий, преобладающий.
Демос в Древней Греции, — отдельные общины или округи свободных граждан с правами и обязанностями, на которые была поделена Аттика. Каждый демос управлялся своим старейшим господином, демархом. В понятие демоса входит совершенное обустройство общества с идеальным укладом мирной жизни, но и исключительно справедливым наказанием, и в высшей степени божественной формой самоорганизации человеческого общежития. Греческое демократия — “власть демоса” как управление обществом элит.
Дом, как высотное здание, поднимается от основания, расположенного глубоко под землёй, а высоко над землёй завершается крышей, как будто устремлённой по направлению к небу. Латинское domus, греческое demos, санскритское dama в том же значении. Наиболее высокие соборы Европы называются именно так: кафедральный собор в Милане, Duomo; кафедральный собор в Риге, Doms; или одна из самых высоких церквей в Кёльне, Dom; а во Франции соборы и церкви, посвящённые Богоматери, также территории коммун называются Notre Dame. Сравнительно с английским temple «храм» (лат. templum то же). В общем, дом, — нечто гораздо большее, чем просто высокое строение, это если угодно, целое место, как родимый край. Понятие дома включает не только нечто высокое, но и нечто возвышенное, и поэтому в нём всегда найдётся место и время для бога, как для отца. Поэтому из множества названий жилищных построек одно лишь понятие дома вызывает чувство родины и создаёт ощущение тепла и уюта, как знакомого с детства места, поднимая настроение и повышая самочувствие. Под ним также понимают тот величественный мир и ту великую стену, в котором и за которой хотелось бы как можно дольше находиться и хорошо жить. И в этом контексте нельзя назвать домом такое место, где нет простора для мыслей, дум нет, и где не горит огонь в очаге, дыма нет. Домострой, исторический сборник правил, советов и наставлений на все случаи жизни домохозяина и домочадцев по общественным, семейным, хозяйственным и религиозным вопросам.

Домна, большая металлургическая вертикально расположенная печь шахтного типа, или так называемая доменная печь. Дамба, строительное сооружение из высокой грунтовой насыпи для предохранения от речных и морских течений, а также снежных лавин и оползней или другого.
Этот неполный список слов при желании всегда можно продолжить, но в таком случае образцы дополнительной лексики должны однозначно рассматриваться по признаку высокомерного, возвышенного, суть раздутого до гораздо больших размеров или поднятого на недосягаемую высоту, оставаясь единообразными в плане содержания. А поэтому и происхождение непроизводной основы должно быть объяснимо только по образу.
Здесь я хотел бы предложить новую грамматическую модель производных, так называемую словопроизводительную, с последующим перераспределением той в парадигме словобразовательной грамматической модели непроизводных (это наряду с грамматической словоизменительной моделью), потому что в аспекте терминологического дискурса как оказывается невозможно следующее условие — производить слова, основа которых непроизводна по сути.