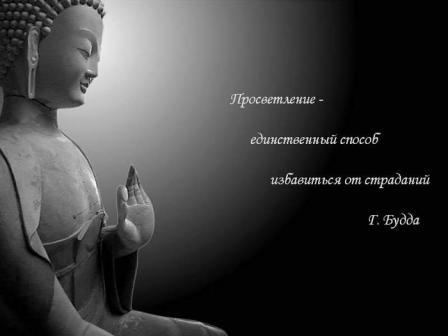Сверка с датировками письменных источников фиксирует слово начиная с XIII века в форме паломьникъ, исходной в отношении формы с восстановительной рефлексией *палъмнькъ как наиболее полного лексического и семантического соответствия среднелатинскому palmarius, в котором суффиксальный формант ~arius сопоставляется с суффиксом ~никъ, а ъ после буквы л появляется поздно как некая вольность переписчиков. Являясь гипотетической праформой, слово *палъмнькъ воспроизводится по аналогии со старославянским псалъмъ, якобы развившимся позднее в псалом, вследствие чего формат *палъмнькъ является заимствованием из среднелатинского в восточнославянские языки. При этом в латинском языке для этого же понятия существует слово peregrinus, пилигрим, обозначающее странника.
Вся дилемма состоит в том, чтобы ответить на вопрос: для чего средневековым писарям вдруг понадобилось при перезаписывании слова palmarius всякий раз вставлять ранний ъ и позднее о после буквы л, при этом ни разу не изменив ни себе, ни своей устной и письменной традиции? Сказать проще, почему бы сразу не записывать и не произносить его так, как оно только и должно быть в случае прямого заимствования, а именно *пальмнькъ?! Согласно той же официальной версии происхождения слова, palmarius возводится к существительному palma, пальмовое дерево (лат. palmam ligno), в котором [l] грамматически мягкое, что и было унаследовано при заимствовании дендронима пальма. По неизвестной причине всего этого не произошло с форматом palmarius, так как в противном случае, если бы это наследие было естественным, а не мнимым, мы наверняка бы имели здесь заимствованное *пальмникъ! И тогда бы уже совсем по другому зазвучала официальная версия происхождения слова, как человека верующего, совершившего путешествие ко гробу Господню и несущего ветку пальмы в знак поклонения Иисусу Христу, которого ликующий народ в Иерусалиме встречал с пальмовыми листьями в руках…
Действительно, ранние христиане часто ходили по святым местам, преодолевая большие расстояния пешком с целью поклонения и молитвы, в своём извечном стремлении к местам и святыням, напрямую связанным с Христом. И одним из таких мест было и остаётся великое путешествие ко Святому гробу. Ежегодно в Великую субботу, накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме нисходит из гроба Господня благодатный огонь. Сами верующие предпочитают говорить о нём как о свете, нежели как об огне! Служба Великой субботы в храме Гроба Господня показывает в богослужебном действе события страстей Господних — смерти, положения во гроб и воскресения Христовых.

Весть о вынесении Святого света из гроба Господня впервые чудесным образом по письменным свидетельствам относится к IX веку. А до того, то есть в период между V и VII веками, в Иерусалимской церкви согласно армянскому переводу иерусалимского Лекционария пасхальное бдение (вечерня и литургия Великой субботы) начиналось с древнего обряда возжжения Вечернего света! И начиная с IX века в источниках встречаются сообщения уже не о простом благословении вечернего светильника, а о нисхождении благодатного огня как о чуде.
В таком случае старославянское слово паломникъ образовано на той же основе, что и пламя, или древнерусское (редко) поломя, — огонь, поднимающийся над чем-нибудь горящим; в формате паломникъ слово известно лишь украинскому, русскому и белорусскому языкам, в которых огонь обозначается соответственно как полум’я, пламя и полымя. Письменное а возникло на месте безударного [о] в акающих диалектах из первоначальной формы поломникъ*. Из всего следует, что данное слово означает человека верующего, который поклоняется пламени священного огня; быть может поэтому болгарское поклонник обозначает то же, паломника. Пламя этого огня, как уверяют очевидцы, синего, небесно-голубого цвета; его берут руками и умываются им; в какие-то мгновения оно не жжёт, но затем обретает силу и им зажигают свечи. Мол благодатный огонь горит прямо на камне, все лампады горят и весь камень объят пламенным огнём: сплошной камень из мрамора, — весь покрыт огнём и нет на нём копоти, — ничего, только огонь горит синим пламенем и всё!
Мы не можем исключать, что эти паломники получили широкую огласку среди русских книжников в то время, когда общее число ходоков, лицезревших огонь пламенный и возвестивших о нём как о благодатном свете, становилось больше и по сравнению с IX веком значительно увеличилось в XIII веке, когда первые о них упоминания фиксируются в письменных источниках, и продолжает расти с каждым следующим ходом из века в век. Поэтому в хорватском hodočasnik, как есть, паломник, в чешском это — poutník и словацком то же — pútnik. Является немаловажным то, что в устном предании слово, как правило, могло бытовать ещё раньше, по крайней мере, со времени зажигания вечернего светильника в узком кругу прихожан: латышское svētceļnieks, паломник. Зачинщиками этого распространения могли быть ходоки, которые пришли, чтобы в очередной раз зажечь вечерний светильник, невольно став свидетелями и провозвестниками чудесного явления вечернего света. И с течением времени каликов перехожих, своими глазами видевших это чудо, стали называть паломниками, потому как всё время только и твердили, что о каком-то благодатном огне, один раз в году нисходящем из гроба Господня. Желающих лицезреть его то и дело росло и уже ходоками становились те из них, кто покинув отчий дом, отправился в долгое и трудное путешествие, небезопасное для жизни паломничество. Когда же благая весть, облетевшая весь мир, была не настолько нова как прежде, необходимость отличать паломников от обыденных верующих, или пилигримов, прошла сама собою, и паломниками стали называть всех без исключения, кто путешествовал по святым местам в поисках вечной истины и боговдохновенных откровений.

И по этой причине невероятно, чтобы среднелатинское palmarius происходило от латинского flamma, пламя, скорее от palma, также как английское palmer — от flame, но вполне жизнеспособной может оказаться та версия происхождения слова, которая возводит его к форме неполногласного palm’a* из каких-нибудь западнославянских языков и диалектов в том же значении, что полъмя*, и тем же способом, что неполногласные формы варта (=ворота), варна (= ворона), гард (= город). В этом случае среднелатинское palmarius явится калькой некой западнославянской формы неполногласного palm’nikъ* (= полъмьникъ*), или в случае подтверждения его официальной версии происхождения — паронимом. В связи с этим убедительной выглядит версия происхождения слова паломник от полногласного поломя с безударным гласным [а] в корне, развившимся под влиянием акающих диалектов, или же от восстановленного здесь палъмьнькъ*, вышедшим из под влияния западнославянских диалектов в форме латинского palmarius.
Открытым, на мой взгляд, остаётся вопрос о происхождении среднелатинского palmarius (< лат. palmam ligno) от названия пальмовых листьев: действительно ли все без исключения верующие христиане, приходившие когда-либо в святое место, шли туда с пальмовыми лапами в руках? Или этот вывод является всего лишь нелепым следствием одного из самых распространённых заблуждений в истории христианства.