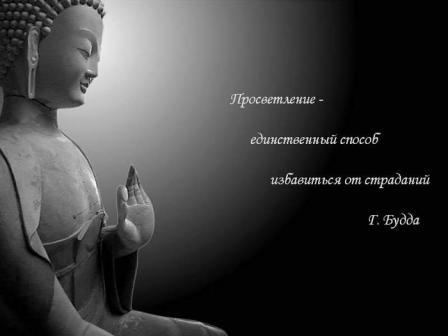Название, подходящее молодой женщине, одетой в подвенечное белое платье, обращало умы многих поколений известных учёных, — ведущих специалистов в области лингвистики. Так, одни из них предпринимали попытки вскрыть его фонетический код, в то время как другие исследователи пытались взломать код семантический. В чём одни и другие были единогласны между собою, так это в том, что в слове конечное та имеет суффиксальное происхождение, начальное не выделяется как префикс, при этом в средней позиции остаётся формант вес, в котором с появляется как изменение первоначального д перед последующим т; к примеру, бреду — брести, краду — красть, едим — есть. Но какой смысл имел в конечном счёте корень вѣс более раннего невѣста, — мнения учёных в этом вопросе разошлись?!
С фонетической точки зрения более убедительной представляется этимология, согласно которой древнерусское слово восходит к форме *невѣдта, что значит «неведомая», то есть незнаемая в соответствии с формой вѣдать «знать» либо неизвестная в соответствии с формой невѣсть «неведение», «неизвестность» и «неожиданность». С этой точкой зрения не согласуются факты семантического плана: значение действия вѣдать от значения действия знать в Средние века отличалось употреблением лишь применительно к вещам, а не к людям, и ни в одном языке сторонники фонетической точки зрения не обнаружили названия невесты с дословным значением “неизвестная”. По этой причине убедительной кажется этимология, предлагаемая сторонниками семантической точки зрения в форме *невоведта с дословным значением “новобрачная”. Корень вед в этом плане должен иметь отношение к значению действия жениться, что следует из концепции вести под венец, согласно которой под таинством брака понимается «вождение» (ср. свадьба), оформленное в литовском как vedu [вяду] «женюсь», vesti [вясти] «жениться». Ведена бысть Ростислава за Ярослава. Корень вед и производные от него во многих языках имеют значение невесты, как например литовское диалектное nauveda [наувяда] «новобрачная», по своей структуре и значению полностью соответствующее древнерусскому слову невѣста. Однако с этим не согласуются факты фонетического плана, так как не понятно, почему в корне вѣд существительного невѣста присутствует гласная буква ѣ «ять» при наличии гласной е «есть» в формах действительного водить: веду — вести. Но совсем не понятно то изменение у начального нево «новый, молодой», которое переходит в префикс не, хотя ожидались бы формы ноувѣста* или новѣвѣста* с аналогией в виде летописных форм ноугородцы или Новѣград.

В первую очередь бросается в глаза восстановительная рефлексия, вводимая в научный оборот необоснованно, отчего означенные формы имеют мало общего с реалиями древнерусского языка, которые к тому же становятся громоздкими и неуклюжими. Взять хотя бы форму *невоведта, оставив в стороне начальное нево, знакомое на материале древнерусского слова невѣгласие, обозначающего невежества, и в историческом названии Нево, восходящем к Ладожскому озеру, и в актуальном названии реки Нева, и в названии города Нью-Йорк, New York. Отчего последующая основа *ведта может быть выведена из научного оборота, как не соответствующая реальной форме обозначающего невѣста с гласной ѣ «ять» и согласной с «эс», отнюдь не д, перед спаренной буквой т. И на этом же последнем условии представляется необходимым отказаться от основы *вѣдта как некорректной грамматической формы. И остаётся только ввести в научный оборот форму обозначающего вѣда*, уже знакомую из литовского диалектного материала, nauveda, так как в письменной традиции, основанной на латинском алфавите, не представляется возможным обозначить звук [ie] соответствующей буквой ѣ из древнерусской азбуки. А поэтому грамматически актуальная форма невеста с гласной буквой е «йэ» воспроизводится в письменной речи, начиная с того времени, когда новой властью большевиков упразднилось древнерусское правописание, что демотивировало факт прописных азбучных истин. Остаётся только лишь восстановить формат невѣвѣста* с гаплологией в обозначающем невѣста, как в древнерусском невѣгласие, что дословно значит “новый голос”, то есть невежественный, как правило, неведомый, неизвестный, неожиданный по своей новизне, также непонятный. Применительно к понятию новобрачной форма слова с гаплологией может быть осмыслена дословно, как “новая вѣда”, в котором первоначальное д оформилось в ст: вѣда → вѣста, как завидовать → зависть, род → рост (ср. родить → растить). И это, что касается лексики. Однако некоторую сложность может представлять семантика. Но и она тоже не вызывает особых затруднений, ежели обратиться к вспомогательным словам на той же основе и примерно в том же значении под определённым углом зрения. Древнечешское věda, сведущая в обрядах, обычаях и нравах жена в языческой семье и христианском обществе, как вѣдьма, получившая резко отрицательные коннотации злой и вредной колдуньи во времена Святой инквизиции и «охоты на ведьм». Или с античных времён известны древнеримская богиня Веста, как хранительница домашнего очага, и весталки, жрицы и служительницы культа (лат. virgines vestales «девы весты»), которым в обязанности вменялось участие в обрядах жертвоприношения и поддержание вечного огня в храме Весты. Это их служение длилось целых тридцать лет, в течение которых весталка обязана блюсти целомудрие. А по истечении тридцатилетнего срока весталка получала свободу и только после этого могла выйдти замуж. Принадлежавшая знатному роду и без физических недостатков, она пользовалась всемерным уважением и почтением, и поэтому их особа была неприкосновенной: оскорбивший весталку карался смертью, но встретившийся ей на пути к месту своей казни преступник получал освобождение. Если храм является олицетворением дома Господня, то богиня Веста в нём являет собой собирательный образ замужней женщины, как хранительницы домашнего очага, в то время как весталки воплощают в себе её индивидуальный образ и оказываются вечными невестами своего бога. В этом отношении не менее интересным кажется слово вдова (лат. vidua, гот. widuwa), несмотря на то, что наиболее известны формы обозначающих въдова и вьдова и неизвестна форма вѣдова*, хотя последняя логично и вытекает из корнеслога {вѣд}, имеющего самые непосредственные отношения с корнями вед, вид, вяд в русском ведьма, украинском вiдьма и белорусском ведзьма [вядзьма]. Согласно с древней традицией вдова должна покинуть этот мир вместе с умершим своим супругом, в противном случае, хранить верность усопшему до конца своих дней как чёрная невеста, потерявшая жениха накануне свадьбы, либо чёрная вдова, потерявшая мужа, будучи в супружеских отношениях; всегда одетая в чёрное. С чем например согласованы такие формы: русское невеста, украинское (устар.) невiста, болгарское невяста.
Достаточно распространён тот факт, что девушки не только в настоящее время, но в стародавние времена особенно и в специально отведённые для этого дни и праздники гадали на милого и ворожили на жениха или вышивали магические узоры как обереги и варили снадобья из лекарственных трав, как приворотные зелья, помнили всевозможные заговоры и рассказывали своим детям и внукам всякие волшебные истории, невольно представая в глазах простых обывателей хранительницами семейных обычаев, обрядов и нравов с древнейшим укладом общественной жизни, как добрыми феями и сказочными волшебницами, так и лесными ведьмами, и дикими колдуньями. И всё это находит своё отражение в эпоху позднего Средневековья в трактате по демонологии, оба автора которого в лице католического приора иже доминиканского инквизитора рассказывают о надлежащих способах и методах преследования и наказания ведьм, который был написан и впервые опубликован после отмены епископом города Инсбрук (Австрия, 1485 г.) ряда приговоров инквизиции по делу обвиняемых женщин, одной из главных побудительных причин которого стал сексуальный характер обвинений.
Латинское слово malefica в оригинальном названии трактата, переведённое как «ведьма», — широко распространённый средневековый термин, обозначавший именно злую колдунью, как вредящую людям по наущению Сатаны, тем самым грамматически определявший женскую сущность чародейства. Однокорневое с ним слово maleficium означает преступление, или злодеяние, в особенности что касается колдовства и магии. Развитие книгопечатания, которое приходится на это время и связано с именем немецкого первопечатника и первого типографа Европы, Иоганна Гутенберга (1400-1468 г.г.), способствовало распространению трактата, что вызвало массовую истерию и психоз среди населения и привело к началу публичной «охоты на ведьм». В это время религиозной смуты, которое падает на период конца Средневековья, в обществе обострились противоречия бывшие между сторонниками и противниками Римской кафолической Церкви, жертвами которых стали народные целители и знахари и хранители языческих обрядов и верований, устроители поганых праздников и торжеств как носители древней суть крестьянской духовной традиции. И на фоне различных культур и народностей невеста, которую жених приводит в дом своих родителей, кажется чем-то новым и неожиданным, и поэтому неизвестным; непонятно, что от неё можно ожидать. Она как новый голос в семье с традиционным укладом жизни и устоявшимися ценностями, как новенькая, которая только что устроилась на рабочее место, как новый член семьи или же попросту новая жена-веста. Какие новые ценности принесёт она в привычный домашний быт и носителем каких семейных традиций и жизненного уклада окажется? Все эти вопросы будут без ответа до поры до времени, который в итоге может стать самым неожиданным.
В материалах по древнерусскому языку И. И. Срезневского вѣдоун обозначает колдуна, знахаря и не означает при этом волхва: Явишася в Новѣграде волхвы, вѣдуны, потворницы. Буква ѣ «ять» необходимо использована для того, чтобы показать здесь владение неким специфическим знанием о какой бы то не было неодушевлённой материи. Аналогичным образом обстоит дело с таким словом, как вѣдъма (ср. ведунья). То есть, используемое в этом же смысле слово вѣста, сиречь вѣда*, должно указывать на обладание определённым знанием о некой, как правило, неодушевлённой материи, которое передаётся через поколения от матери к дочери, от бабушки внучке, сестры племяннице, и которое в наиболее отдалённую эпоху обязательно должно связываться с религиозными культами и жертвоприношением. По этому условию невѣста не может быть однозначно этимологизирована как «неизвестная» по той причине, что это слово является одушевлённым существительным. А к одушевлённому понятию в таком случае должно бы применяться определение «незнаемая», что не соответствует ему по форме. Поскольку соответствие по форме в последнем случае давало бы форму обозначающего нежена*, что как и в первом случае является сущей нелепицей. Поэтому прочтение формы невѣста в плане отрицания новобрачной как весты и восстановленной на её основе рефлексивной формы невѣда* с отсутствующей гаплологией, если и может быть однозначно этимологизирована, то только как «невежественная» в семейном отношении женщина. Следовательно вѣда*, как явствует из вышесказанного, не имеет прямого отношения к известности или к славе, но однозначно этимологизируется как «вежественная» в семейных делах жена, являясь не простой, но сведущей во всех отношениях женщиной. Из чего следует, что производить обозначающее невесты из однородно звучащих форм типа невѣсть или невисть «слепота» (ср. ненависть, как ослепление, которое обычно приписывают лютой злобе, безутешному гневу) не корректно. Наконец повѣсть тоже не имеет ничего общего с неизвестностью или популярностью, а содержит необходимые сведения о тех или иных событиях, которые произошли раньше. Поэтому и рефлекс в форме вѣдта* в той же мере не правомочен, так как конечное та не является суффиксальным, но ст появляется как изменение первоначального д без последующего т, что и позволяет связать конструкцию с древнерусскими сказуемыми вѣдати → вѣстити → невѣстити «приводить невесту; обручать».
Таким образом, с точки зрения семантики фонетически корректная форма, тут восстановленная как невѣда*, практически становится возможной; с точки же зрения фонетики семантически корректная форма с гаплологией, воссозданная как невѣвѣста*, оказывается возможной теоретически. В одном случае форма отрицания изначально должна бы иметь лёгкий оттенок пренебрежительности к новому члену семьи женского пола, так, как если бы и невеста в свою очередь также прямолинейно стала отрицать своего жениха, называя последнего как он есть, немуж* (м. жених ← ж. жена). Однако в традиционных культурах, как это принято, несколько пренебрежительное отношение к себе испытывают именно женщины, а не мужчины, что так или иначе отражается на всех уровнях языка. В другом случае та же форма, но с гаплологией, дословно означает “новая вѣда” или “новая вѣста”. Как это известно, «новый» в парадигме разных языков несёт дополнительную смысловую нагрузку в виде молодого и не опытного; антоним «старый» соответственно меняет дополнительный смысл на противоположный в виде не молодого и опытного, по сути своей, традиционного, — проверенного временем и опытом многих и многих поколений.

Зато в обоих случаях именно «вѣда» становится основополагающим условием и в парадигме русского языка Средних веков имеет смысл по отношению к неодушевлённым предметам и не имеет известного смысла по отношению к предметам одушевлённым. Поэтому женщину, как со стороны её жениха, так и отца, называют невестой не столько в отношении её самой как невесть откуда взявшейся, сколько в отношении её к браку и семейным традициям, и в любом случае может истолковываться как не изведавшая таинства брака или невежественная в семейном делопроизводстве жена, которая не ведает, что же такое есть этот её предстоящий брак, хотя бы и была до того неоднократно замужем. Напротив этого, веста дословно означает “сведущая жена” как «замужняя женщина», «супруга», «домохозяйка», особым образом проявившая себя в древнеримской культуре, потому очевидно должно толковаться как изведавшая таинство брака, как сведущая в обрядах, обычаях и нравах семьи и общества жена, — та же ведьма.
P. S. Интересно что в письменных источниках слово невѣгласие употребляется как отрицательная форма существительного вѣгласие*, обозначающего знания и мудрости, опытности и навыка (др.-чеш. věhlas, прозорливость), при том, что не находится других антонимов, образованных подобным способом, например, вѣмыслие, вѣсловие, вѣречие, несмотря на то, что мысли, слова или речи могут быть провидческими. А вот по голосу определить насколько человек просвещён или несведущ вряд ли представляется возможным. И тем не менее имеет место форма, которая наиболее вероятна с точки зрения фонетики, но не семантики, на том основании, что формант вѣ в качестве самостоятельного корня и к тому же ещё в предполагаемом значении сведения, ни в древнерусских письменных источниках, ни в современных текстах автору не встречался. А это значит, что форма вѣгласие могла возникнуть вслед ложному осмыслению древнерусских книжников равноудалённой праформы невѣгласие с отрицательной частицей не в составе слова, также как и в наше время профессионалы этимологизируют слово невеста. В позднее же Средневековье грамотеи продолжили традицию употребления слова невѣгласие без малейшего представления о том, что имеют дело здесь с чем-то новым, как правило, неожиданным, доселе неслыханным и невиданным, одним словом невежественным.