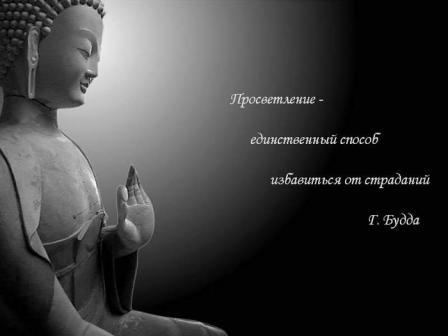Палеолингвисты утверждают, что по тем или иным словам могут восстановить ту природную среду, в которой проживала единая индоевропейская общность, и воспроизвести духовную и материальную культуру, начальными носителями которой становятся арии. По их мнению одни и те же слова и понятия, которые встречаются теперь в различных языках индоевропейской семьи народов, были хорошо знакомы их арийским предкам. Множество таких слов и понятий будет отображать культуру первобытного народа, а на основе этого уже составляется терминологический словарь самых ранних индоевропейцев. С той только лишь оговоркой, что арийцы могли переносить их также на другие языки вследствие своих многочисленных миграций и смешения с другими народами, торговых связей с другими цивилизациями и обособленного развития на ограниченной территории, разной специализации искусств и распространения равновеликих культов. Причём нужно иметь в виду, что значения некоторых слов с течением времени принципиально изменялись. Поэтому нельзя исключать вероятности, что одно и то же слово в разных языках появляется путём заимствований после того, как его носители уже отделились от единственно возможной этнической общности настолько рано, что звуковых изменений в нём не происходило. Это значит, что ранние индоевропейцы, заселившие смежные с прародиной земли, в особых случаях могли быть наследниками неиндоевропейской культуры. Но в таком случае получается, что картина индоевропейской цивилизации, которую рисуют нам филологи, в лучшем случае, не совсем достоверная. Неоднократно предпринимавшиеся попытки решения данной проблемы в индоевропеистике с помощью этнографического материала путём сравнения обычаев, верований, институтов, промыслов нескольких народов индоевропейской группы, для того чтобы выделить некие общие черты, унаследованные от периода длительного их сосуществования, не привели к ожидаемым результатам, а по сообщениям некоторых исследователей, являлись ошибочными. Во всяком случае довольно трудно сказать, что конкретно явилось заимствованием в культуре какого-либо индоевропейского народа, а что унаследовано им от своих прямых предков. В результате сравнительных методов языкознания или этнографии выведенная фактически средняя культура какой-либо общности, как средняя температура по больнице, не может быть истинной, то есть индоевропейской по сути, как не могут быть общими некие черты, истинные для всех племён банту и присущие не только банту. Таким образом, мы вплотную подошли к тому, что называется мотивационной составляющей национальных языков. Насколько слово в том или ином индоевропейском контексте, находимое по письменным источникам в разное время и в различные эпохи, может быть типологически мотивировано из того языка, в котором оно встречается. Что касается данного слова, формат келья известен в форме древнерусского келиιа (XI в.), среднегреческого κελλίον (κέλλα) и латинского cella. Мотивация этих слов на базе национальных языков позволит реконструировать тип жилища, с которым обыкновенно связывается домашний быт индоевропейцев, тем самым представляя наибольший интерес, поскольку относится к наиболее раннему типу убежищ и схронов.
Словарное значение кельи в перечисленных индоевропейских языках сводится к укромному жилищу монаха, но в латинском имеет значение каморки, чулана, в то время как английское cell означает помимо кельи также тюремную камеру. В свою очередь значения «каморки», «камеры» и «чулана» сводятся буквально к ‘каменному’ или ‘земному своду’ (чуваш. чул «камень»). Тут можно провести лексические и семантические параллели между кельей и пещерами. Последние являются полостью, — полым пространством, образовавшимся в скале и земле и представляющим собою естественно возникшую щель в горных породах или в земных недрах, глубина которой весьма относительна. А это наводит на ту же мысль, что первоначальные представления о «келье» были связаны с щелью в горах или в земной коре, где и находили себе убежище первобытные люди. Тем более что лексически «щель» восстанавливается как типологическое тождество — скель* — по аналогии иск — ищет, треск — трещит. Обозначаемое «щель» является внутренней формой слова келья, мотивируя тем самым последнее, что делает его более осмысленным, понятным в плане содержания. В свою очередь щель мотивируется внутренней формой слова колье и представляет собой скол в недрах породы по образцу: колоть (орехи) — щёлкать (семечки); раскол как трещина, прокол как дыра. Например, колющее оружие после применения на теле оставляет глубокие рваные раны. Именно отсюда в немецком появляются такие слова как Holl, ад в смысле разверзшаяся земля, Höhle, пещера, либо то же в английском hell. Сравнительно с чем имеем ущелье как простор меж скал с палатализацией формы колье и парадигматической производной келья, грот как пристинище.

Основная мотивационная составляющая словоряда, колье (мн. ч. колья), имеет значение остроконечного предмета, будь то однотипные дреколье, заострённая на конце палка, или же кельт, топор. Эти и другие острые вещи, используемые по назначению, оставляют глубокий след в виде отверстий, дырок, трещин или рубцов. Сравнительно с чем иголка как заострённая на конце спица. И поэтому колье на раннем этапе развития индоевропейской общности получает значение щели, образовавшейся вследствие укола, прокола, раскола или тому подобного воздействия. И восприятие щели как таковой в дальнейшем ассоциировалось с пропастью высоко в горах и глубоким провалом в земле, с подземным гротом и каменной залой, то есть пещерой, как естественно возникающие под действием природных сил, а не искусственно созданные под влиянием людских ресурсов. В момент фазового перехода за кельей закрепляется значение бедной комнаты, тюремной камеры, тёмного чулана, а возможно и какой-нибудь хозяйственной пристройки. С появлением церковного христианства на Афоне келлиями стали называть небольшие скиты, подчинённые монастырям и состоящие из бытовой постройки с пристроенной церковью и различными хозяйственными землями; иногда келья представляет из себя трёхэтажный дворец с часовнями, например как Андреевский скит в Греции. Очевидно, что на таком позднем этапе монахи в православных церквях воспользовались традиционным названием афонской системы пещер как устоявшихся вещей, обновлённых христианской традицией. Сравнительно с чем имеем индоевропейское sala как зала, холл; Вальхалла как “пещера Валеса” дословно, ставшая в более поздней традиции адом для воинов.

Методология, конечно, предполагает последовательное рассмотрение слова на мотивационной составляющей греческого и латинского словарного состава по аналогии с основным фондом лексики, соответствующим нормам и правилам русского языка. Но ещё до того, как будут проведены подобные исследования, с большой вероятностью можно исключить любые разговоры о заимствованном характере древнерусской формы келия из среднегреческой или даже латинской лексики. Исходя из того, что уже сделано, можно говорить о свойстве кельи как о полом и относительно замкнутом пространстве, что в свою очередь является значением I степени тождества, как наиболее раннее, первообразное. Значение II степени тождества связывается с тем свойством земной полости, относимой к убежищу или схрону как пещере, понимание которого приходит в последствии. После чего свойство пещеры как земного укрытия приобретает значение утлой комнаты, тырной камеры, мрачного чулана в III степени тождества, более всего приближенной к цивилизации. Значениями IV степени тождества становятся в обозримом прошлом православные скиты и многоэтажные дворцы-монастыри по одному из последних свойств камерного жилья. Возможно, что в обозримом будущем кельями станут называть роскошные дома первосвященников…
Ранее отсутствие мотивационной базы в методологии лингвистической науки и привело к тому, что для объяснения смысла и происхождения слов какого-либо одного языка приводили в качестве примеров какие-нибудь однотипные слова из других, как правило, более древних и мёртвых языков с тем же или близким по смыслу значением, игнорируя собственные мотивационные возможности в отдельно взятом исходном языке. При этом было совершенно неважно, какую именно мотивационную базу в свою очередь несут древние или мёртвые языки, из которых брались соответствующие этимоны. Но дело осложнялось не только мотивационной безграмотностью лингвистов, а политически ангажированной методологией в то же время, которая в принципе не предусматривала наличия этнических русских и одноимённого языка в настолько отдалённую эпоху, как древнегреческая или древнеримская. Поэтому происхождение формы лексики келья на базе мотивированных слов щель и ущелье ими не рассматривалось по определению.