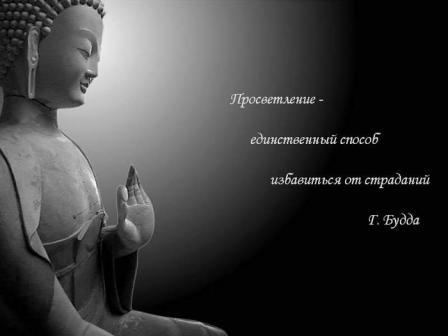Согласно с логикой языка слово определяет понятие. Поскольку язык является знаковой системой, постольку системное слово есть понятный для его носителя языковой знак. Поэтому всякое понятие, определяемое словом, передаётся как значение данного слова. Так как слова делятся на части речи, то и понятия ими определяемые передаются в частеречных знаках, распределяемых в системе по грамматической категории имени.
Открытым остаётся вопрос о классификации языковых знаков, определяемых в категории имён существительных и отвечающих на неодушевлённый вопрос. И в первую очередь это касается тех производных, которые образованы на основе прилагательных, как например, красивый → красивость, лютый → лютость. Состоянием красивой девушки является красивость, состоянием лютого зверя — лютость.
Общим критерием, по которому определяют грамматическую категорию имени существительного, является наличие одушевлённых и неодушевлённых вещей, существующих в каждый момент времени и отвечающих на вопрос: «кто?» или «что?». Но другое дело, — производные от прилагательных, как обозначающие не столько понятие категории имени существительного, сколько его состояние. Хотя производные от прилагательных отвечают на один и тот же поставленный неодушевлённый вопрос, навряд ли будет целесообразно классифицировать их как имена существительные, поскольку ими не являются, будучи состояниями чего-то уже существующего. К тому же имена прилагательные, в свою очередь, сами являются в большинстве случаев производными от существительных, так как вне парадигмы существующего что-либо не может возникнуть из ничего. И грамматически это можно представить таким образом, что существительные от прилагательных на систематической основе производить не корректно. Из чего следует, что ни красивость, ни лютость, присущие девушкам и зверю, не имеют критериев объективной оценки категории имени существительного, потому как состояние объекта не является самим объектом, состояние которого изменяется вследствие воздействия, оказанного на объект. Причём сам объект остаётся, но его состояние меняется от места к месту, время от времени, по обстоятельствам. Так например, я остаюсь в то время, когда моё состояние меняется с возрастом, — от младенчества к старости. Эти возрастные изменения, которые неизбежно происходят с телом, будучи состояниями тела, отнюдь не самим телом, должны быть грамматически обусловленными в соответствующей им категории имени состоятельного. По этой причине ни красивость, ни лютость, ни тому подобные явления не кажутся понятиями из категории имени существительного, так как имеют грамматическое значение, непосредственно связанное с девушкой либо зверем, то есть красивость девушки не является этой самой девушкой и лютость зверя не является самим этим зверем, как впрочем и милый человек пребывает в состоянии своей милости, и будучи снисходительным, ни в чём не упрекнёт и не накажет за всевозможные проступки, проделки, промыслы. Милъ человек — тот кто не может обойдтись без того, чтобы не подать милостыню, ведь милость — это его обычное состояние, переменчивое как время. Боже милостивый! Из этого определённо следует, что имена состоятельные, будучи производными от прилагательных, являются произведениями суффиксов ~ость или ~ство, или например ~ота (мелкий → мелкота, красный → краснота) либо ~ева (синий → синева), ~изна (жёлтый → желтизна) и так далее.
Помимо производных от прилагательных во вторую очередь имеют место и так называемые «отглагольные существительные»: ходить → хождение, спать → успение. Подобные слова тоже относятся к категории имени существительного по одной единственной причине, что отвечают на один и тот же поставленный вопрос, хотя существительными собственно не являются, имея грамматическое значение некоего непрерывного и вечно длящегося процесса, в коем пребывает существующее. Процесс существования обусловлен временным соотношением субъекта в пространстве существующих объектов; также познание обусловлено наличием состава того, кто познаёт и что познаёт. Вне существования не может быть отношений между объектами, как не может быть их между познающим и познаваемым в процессе незнания. Хождение по мукам предполагает наличие такого же субъекта, который находится в перманентных отношениях со своими объектами: кто ходит и как именно. При этом процесс хождения не является ни субъектом, ни объектом отношений; процесс есть взаимоотношение субъекта со своими объектами, как будто продолженное бесконечно. Сокол познаёт голубку как свою добычу, в то же время голубка познаёт сокола как своего добытчика; и если голубка познаёт сокола как хищника, сокол становится объектом голубки, но если сокол познаёт голубку как жертву, то уже голубка становится объектом сокола. Всякий раз и голубка, и сокол оказываются по отношению друг к другу и субъектом, и объектом моментального знания. Однако тот, кто наблюдает за схваткой сокола и голубки, остаётся не только субъектом отношений со своими объектами, но и объектом отношения в процессе самопознания: я есть начало и конец познания, я есть альфа и омега, — как субъект и объект полного знания. Голубка познала сама себя добычей сокола, сокол познал сам себя добытчиком голубки: объект познания субъективен, субъект — объективен, поэтому процесс жизнеобеспечения относителен. Прежде чем начинать исходить из отношений со своими объектами, должно бы существовать то, кто или что воздействует на тот или иной объект в процессе существования, ведь действие существующего в моменте относительно объекта грамматически обуславливается только именем действительным, в то же время наименование существующего обуславливается лишь именем существительным, отчего имя существительное «глагол» можно воспроизводить как имя действительное «глаголать». Однако производить имя существительное от имени действительного на систематической основе вряд ли корректно, так как действие предполагает существование того, кто или что при этом будет действовать: никто и ничто само по себе действовать в принципе не может. Поэтому слова, имеющие значение действия, являются производными от существительных. То есть «отглагольных существительных», произведённых на систематической основе быть не должно: иметь (действительное) → имение (процесс) → имение (существительное). Только когда существующее на момент его движения действует на что-либо, тогда это и становится действительностью существования. Наименование процесса взаимоотношения между субъектом и объектом в категории имени существительного на момент их деятельности друг относительно друга должно бы обуславливаться грамматической категорией по имени относительному (процессуальному). Отсюда следует, что категория имён относительных, как производных от действительных, классифицируется в ряду произведений с такими суффиксальными формантами как ~ание (воспитать → воспитание), ~ение (растить → растение), ~оние (вонять → благовоние) или например ~яние (влиять → влияние).
В итоге получаем две дополнительные категории имён к тем вещам, которые в определённом смысле существуют и действуют (кровожадный зверь и тяжело идти), поэтому классифицируются как существительные, действительные или прилагательные. То есть к словам, которые имеют значение сущего, действия и качества или количества добавляются значения состояния вещей и отношения между ними (юность человека и хождение за три моря). Поэтому при разборе предложений по частям речи значения состояния и отношения дополнительно классифицируются уже как подлежащие состоятельного либо относительного в сравнении с подлежащими существительного и даже числительного (скорость ветра и два часа).
Существительное имѧ не является производным от действительного иметь, но оно образовано на той же основе, что и действительное: «юс малый» очевидно сигнализирует о носовом гласном [ę], который должен был иметь место ранее.
В литовском языке действительная форма imti означает брать; хватать, хапать; и является равнозначной общеславянской форме действительного имать (лат. emere, др.-прусс. imt, лтш. emt), образованного на той же основе, что и имѣть, только на иной ступени чередования гласного и выражает активное действие в отношении формы иметь, отражающей пассивность: поймать ← поимать ← поимѣть. Например, имя действительное внимать будет обозначать активно захватывающую деятельность сознания, внимание будет процессом активного захвата объекта или внимательность — активным состоянием захваченности субъекта, однако невнимательное отношение к делу будет пассивно. Взимать, брать с кого-либо (предоплату). Нанимать, брать кого-либо на работу или на службу. А дядя Козин в этой жизни понимает. Индоевропейский корень *em, *im через ѧ «юс малый» закономерно даёт «я» в русском яти «брать»: изъять «отобрать», взять «забрать», приять «прибрать», отъять «отнять». Но поял по себе всю русь означает «собрал под собою, взял себе (на службу)», дословно “побрал” в актуальном значении чёрт бы вас всех побрал.
Значения слов иметь и брать являются близкими по смыслу, ведь пассивная форма имею выражает результат активного действия беру, то есть «имаю», что также отражено в других языках. В английском I have, у меня есть, дословно “я имею”, буквально ‘я хватаю’. В немецком языке лексическая форма habe значит «имею», а на латинском это же значение имеет habeo; в форме повелительного наклонения слова в этих языках совпадают полностью: habe! «бери», «хватай». Как следствие фонетических изменений, происходивших в германских языках, латинской букве c [к] в немецком стала соответствовать h [х]. Однако наиболее близким фонетическим соответствием немецкому habe является не латинское capio, беру, по букве ‘цапаю’, а равнозначное этому русское диалектное хабить. Дальневосточное хабара, награбленное, сворованное, украденное, потыренное, суть похабное всё. Похабник, кто хватает, цепляет, хапает что-нибудь ценное и дорогое, стоящее, и как правило, не своё, а чужое. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист (С. Есенин). Таким образом, все действительные формы хватать и хапать, или хабить, либо соответствуют, либо нет формам слов иметь или брать по значению в них активной или пассивной тенденции.
Активный русский формат несовершённого вида брать и совершённого взять полностью заменил лексически устаревший активный формат имѣть. Однако, для того чтобы выразить деятельное существование в пассивной форме иметь, необходимо в той же степени обладать крепкой хваткой, цепкими качествами, быть, что называется, «хваткими», «цепкими»; так представляется возможным удержать за собою нажитое имущество, оставаясь полноправным держателем целого имения, например, в виде пакета акций компаний как пассивный доход. Форма действительного цепляю только на иной ступени чередования инициали и централи соответствует латинской форме capio, как обозначающего действия «цапаю». Таким образом, полуоткрытый тип корневых слогов {им}, {ем} имеет значение по признаку хватания, цепляния или хапанья, но в конечном итоге по признаку соединения с однозначной функцией собирания, взимания, и по тому же свойству капитального как схваченного и крепко сцепленного. В сравнении с чем копить, собирать; накапливать, перехватывать значительно больше чем терять. Капитализм — социально-экономическое устройство с присваивающей формой хозяйствования, то есть взяточничеством. Капитал как материальные формы накопления, собранные трудом, взятые силой, захваченные хитростью. Купить, взять товар за денежный эквивалент; покупать, брать товары по цене денежных знаков. Сравнительно с чем копьё как боевое оружие, для того чтобы остриём наконечника подцепить врага. Капать на мозги, цеплять кого-либо за чувства.
Корневой слог {em} имеет значение по признаку в словах, взятых из активного словаря, таких как приём “перехват”, ёмкость как вместимость сосуда под сбор чего-либо; объём как уровень вместимости и площадь охвата: длина, ширина и высота забора, количество вещества, собранного в каком-либо сосуде; наёмник, новобранец или старослужащий, набранный на воинскую службу иностранным государством. Неуёмный ребёнок, суть цепкий, когда детскому уму, так сказать, неймётся, когда не знает на чём остановиться или задержаться, не в состоянии сосредоточиться на чём-то одном, буквально ‘не знает за кого ухватиться, за что уцепиться’.
Корневой слог {im} также имеет значение по признаку в словах взаймы “брать в заём”, то бишь в долг; заимодавец “дающий взаймы”; наймит, как взятый на материальное довольствие работник, служащий; найм, приём на работу или на службу за гарантированное материальное обеспечение. Взаимозависимо, друг у друга в зависимости. Взаимно, взаимосвязанно; обоюдно. Просторечное уйма в концепции уйма времени, когда времени более чем достаточно, имеется его в избытке, одним словом, «хватает».
Развившиеся на базе индоевропейских языков, местоимения тоже проходят по признаку связывания, то есть взаимодействия субъекта отношений с объектом знания, как например, им или ему в единственном числе (англ. him). Не будут исключениями соответствующие им местоимения с ним (съ + им) или в нём (въ + ему). Аномальной кажется местоименная форма с нами (съ + ами), вариант к нам (къ + ам), как развившаяся на иной ступени чередования гласного е/я: ему → [йаму]. Сонорный согласный здесь возникает как стандартный формант при образовании однотипных слов понимать, схватывать умом, связывать воедино образы; соображать; снимать в значении делать снимок, брать изображение в ракурс. Фотоснимок, снимать кино. Например, снять дубль, взять повторный кадр. Снимать жильё, брать в аренду квартиру, жилплощадь. Несовершённый вид унимать и форма совершённого вида унять в повелительном наклонении уймись «соберись», «возьми себя в руки». Устаревшее сонм в концептуальном значении сонм ангелов и польское sejm из политконцепции польский сейм, как собор сил и собрание представителей парламента (др.-чеш. snem, словц. snem). Семья как собрание членов родового общества, а также бандитского и делового сообщества. В санскрите nama, имя, в английском name, то же; в греческом это onoma, onyma. Греческие лексемы могли быть образованы по типу n + om, ym или am в санскрите и английском наподобие лексических форм «понимание», «наименование». На французском âme [am] «душа», но на латинском, душа, — anime…
Имя соответствует термину лексема, звуковой оболочки слова, представленной также букворядом. Допуская ту мысль, что универсальные идеи, как всемирные образы (гр. ιδεα, свойство; образ), проявляются непосредственно в духе народа, — носителя языка, опосредованно развиваясь в душе как собственная мысль, то есть индивидуальный мыслеобраз, «образ мыслей», то уже благодаря телу идея получает осознанную формулу букворяда, что в первом приближении передаёт исконный смысл, который в то же время подтверждается опытом предыдущих и последующих поколений. Переходя из уст в уста и от слуха к слуху, букворяд означающего, звуковой оболочки слова, продолжает нести тот исконный смысл первозданного имени, которому всегда свойственны фонетические изменения, неизбежно возникающие в любой языковой среде, и относительно которых тот принимает различные формы произношения или написания из одного языка в другой, тем более чуждый, также согласуясь с принципом «глухого телефона»; как пример, русское перед и латинское proto. Означающие, будучи звукорядом формы, развившейся из одной и той же праформы, восходящей в свою очередь к одному единственному источнику, как самому раннему имеобразу, мало чего общего могут иметь с предковым букворядом, который в своё время сложился на иной ступени чередования согласных и гласных фонем. В качестве образца можно дать тематическое производное от прилагательного злой → злость, что в последнем приближении возникает на иной ступени чередования согласного из праформы наглость ← наглый, исконная форма для которого глой*, глый* (< прасл. glъ*), как равноудалённая, не имеет сегодня ни смысла, ни значения. Антропоним Аглая. То же самое можно сказать и о такой часто встречающейся форме, как лексически вразумительное польза в сравнении с равноудалённой к ней и не актуальной уже праформой польга, утратившей смысл и назначение и попросту непонятной сегодня. Сформировавшиеся таким или тому подобным образом фонемы автоматически переводят букворяд форм означающих в план выражения слов, обозначающих новое-старое понятие, и о мотивированности которых напрямую говорить зачастую уже не приходится, потому как не имеет абсолютно никакого смысла. Лишь исконное имя в плане выражения содержит определённые, хотя бы не всегда сразу читаемые, смысл и назначение слова, и прямую связь, или мотивацию, с обозначаемым ранее понятием, прицепляя в каждом случае какое-либо одно из его существенных свойств, но остраняя при этом акциденции, — несущественные для данного словообразования признаки и свойства. Поэтому, прежде чем запечатлеть в памяти какой-нибудь образ из окружающего мира, необходимо переосмыслить его, выявив закономерности, и только затем дать ему свойственное наименование по признаку, перезапомнив. Имя как бы кодирует информацию об интересующем нас понятии по предмету в формате языкового знака, когда нет необходимости дальше информировать о каком-либо явлении идеографическим или пиктографическим образом, и для чего достаточно будет вспомнить означаемое как ту предметную часть понятия, которая легла в основу означающего. В своё время таким вот образом поимели целого слона одним словом Elephant, которому в плане содержания вменяется означаемое той части тела слона, по которой сложилось о нём первоначальное представление, и которое не иначе передают как в письменной, так и в устной форме по признаку и свойству, при том условии, что все слоны имеют и другие особенности, получающие уже иные лексико-семантические обоснования в том же санскрите. Такую лингвистическую программу разотождествления имени и слова можно проследить на примере омонимичного ряда языкового знака пол как настила, по которому ходят; пол в значении половины; пол живых существ. И в зависимости от того, в каком контексте находится языковой знак пол, слово приобретает три словарные значения: 1) пол; 2) пол; 3) пол соответственно, а в ряде случаев и 4) пол. Итого имеем всего три (или четыре) различные слова по значению их в первом, втором и третьем (или четвёртом) контекстах, но только одно единственное имя пол. Если же добавить к этому ряду другие три слова, — зоб как женская грудь; зоб в значении горла у птиц; зоб у больного; или в ряде случаев зоб как горб у быка или верблюда, то в конечном счёте получаем шесть (или восемь) различных слов, каждое из которых имеет значение по контексту, и только две лексемы — пол и зоб. Из этого следует, что звуковая оболочка слов в плане содержания вносит в структуру имеобраза не столько контекстуальное значение слова, в том числе омонимичного, сколько смысл, как вносит его имя собственное или имя нарицательное; и не является исключением из правила имя числительное. Полагаю, что числительное пять является наименованием соответствующего количества и означающим цифры 5. При этом числительное не является значением имени, поскольку имя содержит смысл слова, значение которого и есть понятие числа: пять первоэлементов. Ответ на вопрос, почему соответствующее некоторому числительному понятие получило наименование по признаку, и будет искомым смыслом слова пять. Отсюда напрашивается тот вывод, что понятие имени получает своё название по признаку из-за того, что в его свойстве связывать слово и понятие между собою и собирать их вместе под одной и той же или различной звуковой оболочкой.
На этом фоне представляет значительный интерес тот факт, что в современном израильском иврите слово [am] не отождествляется с европейскими аналогами форм «люди» и «народ» напрямую, называя лишь то, что тесно связано между собой как общественное единение или неразрывная общность. Сравнительно с этим, но уже без комментариев, пранава или священный слог aum [ōm] — план выражения примордиального звука, как реликтовой вибрации в бесконечности бытия и первого звукового проявления ещё не рождённого Брахмана, давшего начало космическому существованию, множество миров которого происходили от вибраций, вызванных единственно этим звуком, — как имя, творящее миры. Где-то вдалеке слышится голос хозяина дома вибрирующий (Сама-Веда). Это божество древних египтян, которому также поклонялся и Хеопс, легендарный строитель пирамиды: на древнеегипетском звучало как Амен; инвариант Омен. Одно из имён, которое приписывают Иисусу Христу на еврейском языке звучит как «Амен», инвариант Аминь. В книге Откровения от Иоанна Богослова (3:14) сказано также: «И Ангелу Лаодикийской Церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия». Амон, имя всё того же божественного начала. Звуковое его выражение — пранава (Йога-сутры, 1:27). Аменхотеп, имя одного из фараонов.
Имя символизирует лексическую связь, которая устанавливается между словом и понятием, представляя в плане выражения структуру букворяда форм устной и письменной речи, а в плане содержания представляя значение по признаку и значение по корневому слогу; при этом имя не имеет словарного значения, так как последнее является прерогативой исключительно слова. Имя является тем связующим звеном, которое совмещает слово и понятие в структуре языкового знака. Поэтому из плана выражения выводится как буквальный по признаку и дословный по корневому слогу смысл, так и прямая связь, то есть мотивация, с предметно воспринимаемым понятием, одно из свойств которого отображается на означающем с однородной или разнородной звуковой оболочкой. В отличие от трёх грамматических категорий слов, различаемых по функциям, категория имени грамматически распределяется по признаку с перцептивной функцией.
Относительно грамматической категории имени по признаку я различаю три категории слов по функциям:
- Назывательные слова (с именем): называют понятия своими именами.
- Указательные слова (вместо имени): указывают на понятия, не называя их по имени.
- Соединительные слова (без имени): объединяются с понятиями как по имени, так и вместо имени.
Слова из третьей категории определены мною как безымянные, так как они не обладают падежными формами окончаний. Указательные слова я распределил во второй независимой от назывательных слов категории, потому что их смысл возможно описать как субъектно-объектные отношения и только, и они, также как и слова из первой категории, принимающие падежные формы окончаний, изменяют свою форму в указательно-категориальных падежах.
I. Местоименительный падеж: Кто? Что?
- Я. Мы.
- Ты. Вы.
- Он, она, оно. Они.
- Этот, тот; эта, та; это, то. Эти, те.
- Свой, своя, своё. Свои.
- Всё, вся, весь. Все.
II. Соотносительный падеж: Кого? Чего?
- Меня; себя. Нас.
- Тебя; себя. Вас.
- Его, её. Их.
- Этого, того; этой, той. Этих, тех.
- Своего, своей. Своих.
- Всего, всей. Всех.
III. Притяжательный падеж: Кому? Чему?
- Мне; себе. Нам.
- Тебе; себе. Вам.
- Ему, ей. Им.
- Этому, тому; этой, той. Этим, тем.
- Своему, своей. Своим.
- Всему, всей. Всем.
IV. Надлежательный падеж: Чей? Чья? Чьё? Чьи?
- Мой, моя, моё; мои. Наш, наша, наше; наши.
- Твой, твоя, твоё; твои. Ваш, ваша, ваше; ваши.
- Его, её; Их.
- Этого, того; этой, той. Этих, тех.
- Свой, своя, своё. Свои.
- Всего, всей. Всех.
V. Сослагательный падеж: Кем? Чем?
- Мной; собой. Нами.
- Тобой; собой. Вами.
- Им, ею. Ими.
- Этим, тем; этой, той. Этими, теми.
- Своим, своей. Своими.
- Всем, всей. Всеми.
VI. Сопроводительный падеж: О ком? О чём?
- Обо мне, о себе. О нас.
- О тебе; о себе. О вас.
- О нём, о ней. О них.
- Об этом, о том; об этой, о той. Об этих, о тех.
- О своём, о своей. О своих.
- О всём, о всей. О всех.