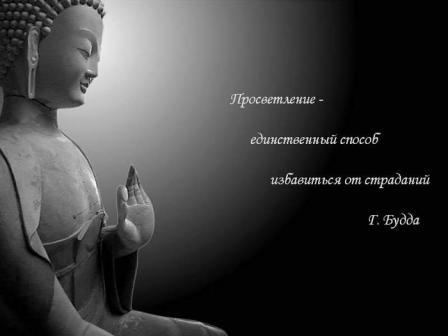В 1841 году Ч. Маккей обнародовал свою первую серьёзную работу о поведении людских масс, «Наиболее распространённые заблуждения и безумства толпы». В конце XIX века Гюстав Лебон опубликовал книгу под названием «Psyhologies des Fouls», переведённую как «Толпа», ставшей пророческой в 1895 году, когда мир ещё не знал, какими толпами будут манипулировать Гитлер и Муссолини.
Любопытно, что для Г. Лебона толпа — это не определённое количество людей, собравшихся в каком-либо одном месте. Толпа по Г. Лебону может состоять из тысячи разрозненных индивидов, отстоящих на огромных расстояниях друг от друга по всему миру. И наиболее поразительной особенностью толпы является та, что кем бы не были эти индивидуумы и как бы не различался между собой стиль их жизни, их профессии, характер или интеллект, — самый факт, что они трансформировались в толпу, наделяет их вроде как коллективным сознанием, которое теперь заставляет их чувствовать, мыслить и действовать в совершенно отличной от той манере, в какой бы чувствовал, мыслил и действовал индивид, будь он изолирован от этой толпы.
Первое, что нам известно о толпе, говорит доктор Лебон, то что индивидуум в толпе, — уже по самому факту принадлежности к ней, — приобретает «чувство неуязвимой силы и власти, которое позволяет ему отдаться инстинктам, — тому позыву, который он, будучи наедине, постарался бы удержать в определённых рамках», то есть чувство личной ответственности, контролирующее поведение индивидуума вовне, в толпе исчезает вовсе. И второе в «Толпе» Г. Лебона — это заразительность, как взаимная передача чувств, «которую нелегко объяснить», но «можно включить в разряд явлений гипнотического характера». И третье в лебоновской «толпе» — внушаемость как «состояние очарованности, в котором загипнотизированный индивидуум находится во власти гипнотизёра». Потому, как только в толпе пропадает чувство ответственности, индивидуум созрел для заражения и внушения и проявления «неудержимой импульсивности». Доктор Г. Лебон явно даёт понять, что толпа — это не место для приличного человека. Индивидуум, становясь членом толпы, «опускается на целый ряд ступенек по цивилизационной лестнице». Хотя толпа всегда «интеллектуально более убога нежели изолированный индивидуум», она может быть либо лучше, либо хуже отдельно взятого человека, ведь всё зависит оттого, какого качества внушениям она подвергается. «Толпы, — продолжает доктор Г. Лебон, — всегда и повсюду отличались женскими характеристиками», подразумевая под этим, что толпа мужчин ведёт себя как индивидуальная женщина, которая «в чём-то подобна Сфинксу из древней легенды: нужно найдти или решение задачи, приемлемое для её психологии, или быть съеденным заживо».
В работе доктора У. Макдугала «Групповое сознание» толпа представлена как «излишне эмоциональная, импульсивная, склонная к насилию, переменчивая, непостоянная, нерешительная, чрезмерно подверженная» или «до крайности впечатлительна и неряшлива в логике, поспешна в суждениях и неспособна к размышлению ни в какой форме, кроме самой примитивной».
Толпа, — говорит всё тот же доктор Лебон, — не рассуждает, она только думает, что она рассуждает. На самом же деле она воспринимает серию образов, но не обязательно связанных какой-нибудь логикой, что и объясняет одновременное появление в ней противоречащих друг другу идей. Толпа подвержена влиянию образов, а образы эти производит «аккуратное употребление слов и формул, — искусно применяемые, они при самой трезвой оценке действительно содержат в себе мистическую силу, прежде приписываемую адептам магии». И наверное здесь имелись в виду слова типа «свобода» и «демократия», хотя слова другого класса тоже пришлись бы кстати. Нужно только распознать «магическую силу, содержащуюся в этих нескольких слогах, как будто они несут в себе и решение всех проблем и синтезируют большую часть самых различных бессознательных устремлений и надежды на их воплощение в жизнь».
Какое всё это имеет отношение к нам с вами и науке вообще, и к лингвистике в частности? Проблема лексико-семантического обоснования мотивированности непроизводных словооснов занимает огромную толпу рационально мыслящих лингвистов, этнологов, психологов и пылких студентов или дипломированных специалистов, а также великое множество любителей русской словесности или почитателей старины. Десятки, сотни, тысячи разумно мыслящих учёных и их уполномоченных представителей поставляют противоречивую информацию к миллионам своих добросовестных читателей, сопровождая то статистическими данными таблиц, схем, графиков и цифр либо блестяще сформулированными идеями и положениями. Но, несмотря на это, «белые пятна» и «тёмные века», «позднейшие вставки» и «апокрифические летописи» таки дискредитировали ум и совесть исследователей, авторитетные ссылки которых остаются в тенетах собственных заблуждений. Время от времени толпа индологов, иранистов или востоковедов, придерживающихся скандинавской, балтийской или балканской теорий наравне с евразийской, с огромной толпой славянофилов и русофобов, устремляются к новой и хорошо забытой старой идее о том, что всё в этом мире состоит из чистого золота, но отнюдь не из гранита. В каком-нибудь XVIII-XIX веке весь просвещённый мир уже было собирался жить припеваючи и играть в гольф на вечнозелёных лужайках норманнской теории. В продолжение первой половины XX века норманнская теория уступала свои позиции германской как «истинно арийской» теории, или индоевропейской, причём не притормаживая на пути собственных исследований. И уже в XXI веке научный истеблишмент, в их числе славянофилы и русофобы, хотел было ещё расслабиться и посмотреть плазменный телевизор, но в один момент акции романогерманских кампаний скукожились, как печёное яблоко, катастрофически падая вниз, в то время как акции славянорусской кампании резко подскочили в цене…
Этимологически толпа родственно древнерусскому тълпа и старославянскому тлъпа (болгар. тълпа) и обозначает в славянских языках группу, как собрание людей. Семологически же слово проходит по признаку действительных толочь и толкать с функцией деления целого на составные части (ср. сущ. доля) либо действительного толмить (обл.) «твердить, долбить» в переносном смысле по значению действия «упорствовать»; сутоломня «давка, толкотня, бестолочь» и смоленское талмата «шум, суетня», что легко объясняет его происхождение в чешском tlum и польском tłum с тем же значением по законам консонантизма {тлм}. Однако эти слова в том числе русское сутолока никак не объясняют его происхождения в белорусском толпа, чехословацком tlupa, болгарском тълпа по корневищу согласных {тлп}, но всё полностью объясняет функциональность действительного долбить через оглушение согласных [д] и [б’] с производным от него толпиться и дальнейшую ассимиляцию губных согласных: /п/ → /м/.
Объяснение происхождения общеславянского слова посредством литовского и латышского talpa от ёмкости как «помещения» к условному значению «людей в самом помещении», а затем исключительно «людей», лишено каких бы то не было оснований по той причине, что происхождение в литовском и латышском языке данного слова не рассматривается вовсе, а принимается как изначальная данность.
Итак, если есть молва, как явление аккомодации, то должно быть и то, что это социальное явление порождает. Поскольку явление социально, постольку оно порождается неким социумом в виде группы людей, коллектива трудящихся и скопления народа или психологии масс, коллективного соразума и группового сознания. И это собранное из отдельно составляющих его индивидуумов нечто целое определяется в плане выражения и содержания одним словом толпа.